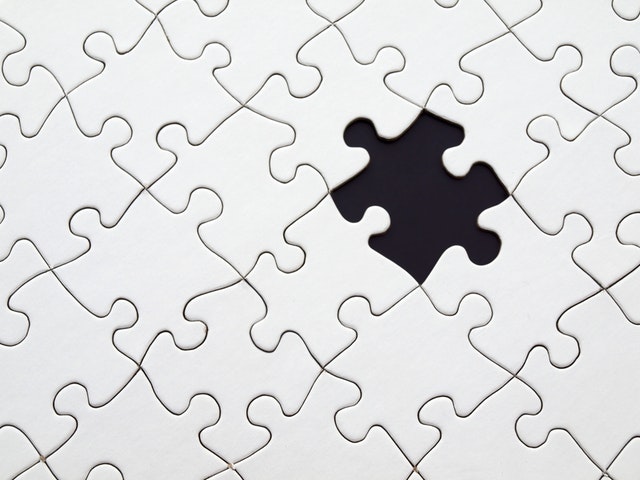Л.К.Науменко
(г.Москва)
доктор философских наук, профессор
Эвальд Ильенков и диалектическая традиция
в мировой философии.
(Пленарный доклад на Ильенковских чтениях 2008 г.)
- 1.Роль диалектической традиции в творчестве Ильенкова очевидна. Обращение к этой традиции позволяет выяснить и уточнить теоретические истоки его идей, осмыслить все его творчество в контексте истории мировой философии. Главную работу в этом направлении проделал он сам, обращаясь к античной философии, подвергая анализу системы Декарта, Спинозы, Канта, Фихте, Гегеля, Фейербаха, Маркса. Кое-что сделано в этом направлении и другими исследователями.
Однако важнее и интереснее другая сторона дела – прояснение того, что дает творчество Ильенкова для понимания самой диалектической традиции. Эта сторона дела и составляет предмет настоящего сообщения.
- 2.Прежде всего следует сказать, что нет единой диалектической традиции. Сам Ильенков четко различал идеалистическую и материалистическую традиции. Более того, в самой материалистической традиции, к которой он примыкал, он видел несовместимые тенденции.
Начнем с простого: «диамат» и диалектическая логика. Здесь и конфликтная завязка фабулы всего творчества Ильенкова. Нам уже доводилось писать о том, что сделанное в философии Ильенковым невозможно понять и оценить в контексте эволюции официальной советской философии – «диамата – истмата».[1] Этот контекст важен не для понимания того, кем он был, но для понимания того, кем он не был.
Первая проблема – это проблема взаимоотношения диалектики как теории развития с диалектикой как логикой. Она же — и проблема предмета философии.
Официальная версия диалектики – это ее понимание как «науки о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления». В каждой из этих областей общие законы действуют своеобразно, вследствие чего, например, диалектика в геологии отличается от диалектики в биологии. «Общий род» дополняется «специфическим отличием». В мышлении общие законы преломляются своеобразно, что и является основанием для трактовки логики как науки о специфических законах мышления, т.е. как «субъективной диалектики». Законы мышления так относятся к законам «бытия», всего сущего, как особенное к всеобщему. Соответственно и структура философии выглядела так: онтология (учение о развитии вообще), гносеология (учение о познании) и логика (учение о мышлении). Логика построения философии следовала этой схеме движения от общего ко все более специфическому и имела форму клина. В самой острой точке его находилось нечто абсолютно специфическое, уникальное – личность, «Я». В ильенковской же «версии» диалектика развития есть, напротив, восхождение от особенного к универсальному, всеобщему – к личности как индивидуальному воплощению всеобщего, к «Я». Вершина эволюции материи — человек, универсальное существо, способное действовать по меркам всех вещей во Вселенной, а не по своим особым, специфическим меркам. Логика развития материи у Ильенкова обратна диаматовской.
Диаматовская схема, представляющаяся простой и, казалось бы, прозрачно-разумной, порочна в самой основе: тезис о «специфике мышления» делает познание вообще невозможным. Этот тезис о преломлении объективной информации в специфической «среде», о «призме» нашей чувственности и нашего рассудка, обладающей своим «коэффициентом преломления», т.е. искажения реальности, был отвергнут еще в античности, высмеян Спинозой и узаконен Кантом и его многочисленными последователями. Формы чувственности и формы рассудка рассматривались последними как матрицы, налагаемые нашей субъективностью на аморфную «материю» опыта. Это априорные формы созерцания, категории рассудка, схемы языка, архетипы коллективного сознания и бессознательного, культурно-исторические стереотипы и т.д. В соответствие с этой логикой теория отражения должна представать как теория искажения. Любопытно, что примерно так понимал отражение и Л.С.Выготский. Психика, — пишет он, — «есть орган отбора, решето, процеживающее мир и изменяющее его так, чтобы можно было действовать. В этом ее положительная роль – не в отражении (отражает и непсихическое, термометр точнее, чем ощущение), а в том, чтобы не всегда верно отражать, т.е. субъективно искажать действительность в пользу организма».[2] (А что писал молодой Маркс? — ЕВ) Заметим, что термометр ровным счетом ничего не отражает, если нет того, кто соотносит подъем столбика ртути с температурой за окном: ртуть только расширяется и ничегошеньки не знает об «отражении». Ильенков прав: отражение есть только там, где есть идеальное, т.е. представленность одного материального объекта в другом, температуры среды за окном в объеме ртути в термометре. В противном случае «отражение» – лишь переименование банального физического процесса в категорию гносеологическую и психологическую, переименование порося в карася. Если астроном рассматривает в телескоп кольца Сатурна и не видит при этом ни Марса, ни Венеру, значит ли это, что он искажает реальность? Искажение, т.е. ложное отражение есть только там, где часть выдается за целое, скажем, там, где «взглядом упираются в свое корыто» и весь мир отождествляют с этим корытом. Это знал хорошо и Спиноза: идей, ложных самих по себе, не бывает.
Этой догме Ильенков противопоставил тезис о том, что специфика мышления состоит в неспецифичности его форм и законов. Можно на пальцах одной руки перечесть тех диалектиков, которые всерьез принимают этот тезис. Для большинства он нелепость, «оксюморон». Однако то, чего не понимают диалектики по профессии, прекрасно понимали Пушкин и Достоевский. Вот что говорит Версилов в «Подростке»: «Заметь себе, друг мой, странность: всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем условием, что останется наиболее французом; равно англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, то есть еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное отличие наше от всех, и у нас на этот счет – как нигде. Я во Франции – француз, с немцем – немец, с древним греком – грек и тем самым наиболее русский. Тем самым настоящий русский…». Не потому ли и сам Достоевский с пониманием был принят в Европе, что и там для француза и немца в их особенном «сквозит и тайно светит» (Тютчев) человеческое, универсальное? А вот доминирование особенного над всеобщим – это «слишком немец» (слова Достоевского), то есть нацист. Доминирование «специфики» в мышлении — это в лучшем случае агностицизм.
Для Ильенкова же диалектика – это и есть диалектическая логика. В мышлении мы имеем дело не с особыми законами, а с всеобщими. Если в природе и истории они пробивают себе дорогу сквозь массу случайностей, то в мышлении они предстают в чистом виде и реализуются сознательно.
- 3.Следует обратить внимание и еще на одно обстоятельство. Догма о «специфике мышления» увековечивает ветхозаветную практику разделения философии на онтологию, гносеологию и логику. Она была неприемлема для Ильенкова еще и потому, что применялась «нотариально заверенными марксистами» (Мих.Лифшиц) идеологически по схеме: «марксизм-ленинизм учит». Особенное прямиком выводилось из всеобщего, «мичуринская биология» из «диалектического материализма». А то, что не выводилось, тут же становилось «лженаукой». Теория «наиболее общих законов» превращала философию в «науку наук». И та же самая теория, обреченная заниматься «обобщением достижений естествознания», т.е. сводить особенное к всеобщему, превращала диалектическую философию в обоз естествознания. Этот подход категорически отвергался Ильенковым, что и явилось одной из причин его травли.
Ильенков твердо стоял на той позиции, что диалектика как философская наука не может сводиться к извлечению из конкретного материала плоских универсальных истин, общих мест вроде следующих: «все движется, все развивается», «все взаимодействует со всем», «все взаимно перепутано» и к соответствующему «конкретному применению» этих банальностей. «Информационная емкость» таких истин почти равна нулю. Для него философия – не абстрактная наука «обо всем» (о «мире в целом») или, что то же самое, — «ни о чем», а конкретная наука со своим четко очерченным предметом – логика и теория познания. Именно в мышлении, составляющем предмет философии, всеобщее предшествует особенному и единичному, оно не результат стихийного процесса, а предпосылка процесса сознательного. В этой инверсии – суть дела.
Содержание законов мышления и составляют универсальные законы бытия. Травля Ильенкова за «гносеологизм» основывалась на подлоге: ему приписывалась прямо противоположная, кантианская мысль. «Гносеологизмом» же страдал сам «диамат», видевший специфику мышления не в отражении, а именно в искажении. Диалектика же в контексте этой «мудрости» понималась как субъективное «огрубление» реальности, т.е. как наложение «специфики мышления» на нее и последующее магическое устранение этого огрубления. Так трактовалось, например, противоречие: сначала «огрубляем», сводим движение к сумме состояний покоя, а затем каким-то чудесным образом устраняем это «огрубление». Вся диалектика тут сводится к тупому диалогу деревянного рассудка с хитрым «становлением». Словом, сначала живое убьем и разрежем на части, а потом будем мертвое воскрешать посредством… «диалектики».
- 4.Классическую традицию в диалектике Ильенков противопоставлял как натуралистической, так и ее субъективистской версии. Первой соответствует то, что понималось под «диалектикой природы», второй – то, что понималось под «диалектикой понятий» («субъективной диалектикой»).
Натуралистическая версия для Ильенкова неприемлема потому, что она оперирует не чем иным, как гипостазированными абстракциями, и рассматривает их как вещи, имеющие бытие независимо от мышления, от логики. Так, к примеру, пытались в свое время толковать бесконечно малые как некие объекты или существа столь несуразные, что непонятно было, как можно верить в их существование. Задавались и вопросом о том, что такое нуль: есть он реально или не есть, а если он есть, но только в «уме», то зачем он математике? А уже в советское время примерно так же рассматривали «борьбу противоположностей» — как реальную схватку одного класса с другим. Но пролетариат без буржуазии – фикция и обратно. Поэтому в крайнем случае признавали единство, т.е. связь противоположностей, но никак не их тождество.
Натуралистическую версию диалектики отождествляли с материализмом, тогда как на деле – это всего лишь наивный материализм.
Любая картина мира, скажем, физическая, является одновременно картиной мышления, ибо опирается на определенные допущения, т.е. абстракции, на «скелетную схему» теоретического разума данной эпохи. Поэтому понять природу невозможно, не зная природы мышления, хотя бы природу абстракции, и не понимая того, как может быть разрешено фундаментальное противоречие: истина по природе своей конкретна, а мышление по природе своей абстрактно. Если не учитывать специфику мышления, его абстрактность, то от него вообще следует отказаться. Тогда получим эмпиризм. А если эту специфику учитывать, то не уйти от концепции «наложения», т.е. агностицизма. У Ильенкова эта антиномия разрешается в диалектике абстрактного и конкретного. Сознательно-диалектический метод есть такой способ движения мысли, естественный для нее, например, дедукция, при котором оно совпадает с развитием от простого к сложному. Абстрактное тут оказывается не только выражением специфики мышления, но и специфики самого объекта. Абстрактному в мысли соответствует конкретное состояние развивающегося объекта – его неразвитое состояние, элементарная клетка, «реальная абстракция», «практически истинная абстракция». Сознательно-диалектическая методология поэтому есть «хитрость» диалектического разума, находящего такой подход к объекту, такой его «ракурс», при котором сам объект работает на нас, сам развертывает свои определения, вследствие чего специфика мышления с его абстрактностью совпадает со «специфической логикой специфического предмета». Но это вовсе не «просто созерцание». «Хитрость разума» есть трудная работа. Ильенков говорил, что понятие не содержится в созерцании, как и паровоз в той руде, из которой выплавили металл. Это – переработка созерцания в понятия, но по законам самого объекта. При сотворении паровоза не только не нарушается ни один из законов природы, но само это сотворение совершается именно по этим законам. Тождество логики мышления с диалектикой предмета здесь не абстрактно-философская истина в духе «философии тождества», но задача применения метода, адекватного логике предмета, т.е. проблема разработки такой методологии, при которой «порядок и связь идей» оказываются теми же, что и «порядок и связь вещей».
Ньютоновская физика – это одновременно и логика классической механики. Допущения, о которых идет речь, т.е. исходные абстракции актуализируют одни и отбрасывают другие стороны реальности. По отношению к реальности такая абстракция оказывается произвольной. Для ньютоновской механики это абстракция инертного физического тела, исключающая неопределенность, спонтанную активность любого объекта. Масса как мера инерции – это идеализация, инертное тело – гипостазированная абстракция. Первый закон Ньютона и говорит о том, что любое изменение координаты или скорости тела может быть вызвано только внешней силой, внешней причиной. В свою очередь причинность понимается только как внешняя причинность, самопричинность в этой схеме исключена. Следовательно, движение не является атрибутом материи, необходим «перводвигатель». Эта схема предписывает искать источник движения за рамками исследуемого явления. В «подкладке» такой физической картины мира лежит определенная метафизическая онтология, которая источником своим имеет вовсе не факты, но априорную установку теоретического разума данной эпохи, т.е. логику науки. «Онтология» поэтому рисует не только картину бытия, но и картину этого разума. Далее, тот же первый закон Ньютона говорит, что тело, на которое не воздействуют другие тела, т.е. внешние силы, сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Физически это допущение просто абсурдно: тело, не взаимодействующее с другими телами, должно быть только одно, а если это так, то оно и не тело, а то, что Спиноза назвал субстанцией, которая одна. Но вводится-то закон как раз для объяснения взаимодействия тел! Логически же, т.е. с учетом деятельности мышления, оно относительно разумно.
Интересно, что ньютоновская схема, претендующая на универсальность, находится в вопиющем противоречии с фактами. Ведь инертных живых тел не бывает, тем более – мыслящих. Внешнее движение мертвого тела нуждается во внешней причине, движение живого – нет. Оно – самопричинно. Мы ведь не спрашиваем, почему живое живо, жизненная активность атрибутивна для тел особого рода. Вопрос о внешней причине уместен только тогда, когда живое умерло. Лапласовская линейно-однозначная причинность упирается в неопределенность и непредсказуемость не только тогда, когда речь идет об электроне, но и всякий раз, когда мы имеем дело со спонтанной активностью, которая в простейшем случае оказывается неопределенной, хаотичной, как у электрона (у Демокрита атомы сами по себе «трясутся во всех направлениях»), в случае с животным активность становится направленной (на биологически значимые объекты), но специализированной, у человека она универсальна.
Речь, таким образом, должна идти не только об онтологии, но и о логике, о логике не формальной, а содержательной, т.е. об условиях мыслимости явлений. Это категории. В ньютоновской схеме субъект просто немыслим, нет соответствующих категорий, которые могли бы обеспечить его мыслимость. То же самое и во вселенной Больцмана. Но это и значит, что такая «физическая картина мира» исключает саму физику, ибо физика как наука есть продукт жизнедеятельности «мыслящего тела», субъекта. В мире Ньютона нет места самому Ньютону. Поэтому приходится допустить существование другого, не физического, не материального мира, где действуют уже другие принципы и где бессильна «действующая причина». «Онтология» сама себя опровергает.
Позиция Ильенкова ясна и однозначна: диалектика и есть логика и гносеология: не надо трех слов, это – одно и тоже. Этот тезис лежит в фундаменте его понимания предмета философии и он же определяет его отношение к диалектической традиции. Та диалектическая традиция, которая исходит из идеи тождества мышления и бытия, и есть столбовая дорога диалектики. Именно она атрибутивна для классики философии. Этот тезис настолько важен, что Ильенков назвал его «паролем на вход в философию».[3] Он же – критерий для отличения диалектики от ее суррогатов, боковых ответвлений.
Вторая главная проблема – проблема тождества мышления и бытия.
- 5.Принцип тождества мышления и бытия – необходимый критерий для оценки диалектических традиций. Необходимый, но недостаточный.
В работах Ильенкова убедительно показано, что на фундаменте идеи тождества мышления и бытия стоят две противоположные диалектические традиции – идеалистическая и материалистическая.
Наивно думать, что это различие затрагивает лишь некоторые общие мировоззренческо-идеологические посылки. Ильенков показывает, что это различие обусловливает принципиальные расхождения в самой логике мышления, в понимании «механизма» познания, принципиальные различия, так сказать, в самой интеллектуальной практике.
Обратимся к тексту «Диалектической логики». Здесь мы находим следующее: «Так называемая философия абсолютного тождества есть на самом деле философия тождества мышления самому себе… вместо действительного бытия повсюду представляется мыслимое бытие, т.е. бытие в том виде, в каком оно уже выражено в мышлении. Поэтому под грандиозно глубокомысленной конструкцией гегелевской философии скрывается на самом деле пустая тавтология: «Мы мыслим окружающий мир так и таким, как и каким мы его мыслим». Вследствие этого «бытие», «объект», природа и история «изображаются» как нечто само по себе бесформенное, пассивное, глинообразное».[4]
Посмотрим, каковы собственно логические следствия такой установки. Таких следствий, по меньшей мере, три.
- Первое следствие – это «диалектика изолированных противоположностей».
Отождествление бытия вне мышления с бытием в мышлении (или, что то же самое – бытия вне культуры с бытием в культуре, т.е. со схемами «социально организованного опыта») дает нам диалектическую традицию, чуждую Ильенкову. Эту традицию мы обозначим здесь как «диалектику односторонностей» или «диалектику крайностей», которые «сходятся», порождая «ничто» — нуль, пустоту, бессмысленность. Можно обозначить эту традицию и иначе – как «диалектику смыслов» (кому что более понравится). Диалектика природы и истории в этой версии начисто отвергается. Остается только «диалектика понятий». В «онтологической схеме» — это, например, гегелевский панлогизм: природа не знает развития, природа не знает диалектики, в ней мы имеем дело лишь с окаменевшими следами диалектического шествия мирового разума. Есть и «гносеологические» версии той же установки.
Обратимся для обнаружения этого к Платону и Делезу.
В античности Э. Ильенков находит зачатки основных идей и проблем западноевропейской философии от схоластики до наших дней. Главные линии этой драмы, ее основные конфликты, включая и конфликты современной философии, уходят корнями в неразрешенные противоречия философии античной. Даже самые оригинальные и парадоксальные «дискурсы» новейшей философии обречены на «вечное возвращение» (Ж.Делез) к своим истокам. Таков, например, постмодернизм. Уже после смерти Э.Ильенкова было шумно отпраздновано «низвержение Платона», а вместе с ним и всей философской классики. Именно с этого начинает Жиль Делез все предприятие «выворачивания наизнанку» этой классики. Но схема-то остается прежней, меняются лишь наименования и оценки полюсов, как и вывернутая правая перчатка остается той же самой, только сегодня надевается на левую руку.
Делез зорко подметил и ярко осветил «ахиллесову пяту» философии Платона, а заодно с ним и всей «линии» классического рационализма («связки» «Платон-Гегель») и направил стрелы своей критики именно в эту точку. Эта «ахиллесова пята» — платонова «онтология». (Его «гносеология» исчерпывается теорией «воспоминаний», т.е. психологией). Истинным, подлинным бытием, объективным Платон объявляет определенность, устойчивость, порядок, меру, всеобщность, необходимость, четко очерченный, однозначный и неизменный (вечный) «смысл», «идею». Именно так понятому бытию у него противостоит «неистинное» — неопределенность, текучесть, «бывание», «становление», единичность, бесформенность, многосмысленность – «мнение». Все, что связано с чувственно данной «материей», тонет у него в темной яме «небытия». А на каком основании первым определениям (инвариантам) приписывается статус объективности, истинности, а противоположным – субъективности, «мнения»? Не приведены Платоном такие основания. Делез поэтому прав, рассматривая онтологию Платона как порождение «бюрократии чистого разума», втаптывающего, утрамбовывающего многоликость подвижной, текучей, никогда не равной самой себе реальности в прокрустово ложе «идей», в которых Делез видит лишь «матрицы», налагаемые на эту реальность, произвольные «паузы» и «остановки».
От Платона пошло деление всего сущего «надвое». Реальность была рассечена на две половинки, одна – оставлена, другая – выброшена. Одни категории были занесены в графу «истинное», другие – в «ложное». Бытие – небытие, покой – движение, всеобщее – единичное, необходимое – случайное, необходимость – свобода, единое – многое, порядок – хаос, смысл – бессмыслица и т.д. На это опиралась и гносеология и логика. У средневековых реалистов, к примеру, всеобщее отождествляется с объективностью, единичное - с субъективностью. Тот же подход и у рационалистов позднейшей эпохи. У эмпиризма XVII-XVIII в.в. и много позже – у логического атомизма – все наоборот. Одни категории проходят по ведомству «онтологии», другие – «гносеологии». Но единичное, взятое в отрыве от всеобщего – такая же гипостазированная абстракция, как и всеобщее, оторванное от единичного, — фантазм, говоря языком Делеза.
Что же предлагает Делез? А вот что: взять за исходное другую «половину» — «становление», «сингулярность», событие (не «бытие»!), неопределенность, бессмыслицу, «нонсенс», хаос. Он и пишет в своей «Логике смысла» о власти (!), «воцарении созидающего хаоса».[5] Перчатка вывернута наизнанку, а с изнанки – то же самое, только «все наоборот». Это и есть то, что Мих.Лифшиц называл «логикой обратных общих мест». Хаос-то – тоже абстракция, идея, просто другой «центр» и этим центром оказывается сам Делез, его «истина». Позицию эту можно сформулировать так: «Истины нет! – Вот истина!» И эта позиция отстаивается напористо, даже агрессивно. Порицая все «привилегированные точки зрения», Делез именно своей выдает все привилегии истины. Чем власть «бюрократии чистого разума» лучше власти «бюрократии антиразума»? Скажем так: если отрицание идеи влечет за собой ее же утверждение, то она по одному только формальному критерию уже, по меньшей мере, не ложна. А если утверждение ее влечет за собой ее же отрицание, то она категорически не истинна. Идея отрицания объективной истины влечет за собой утверждение объективной истины, ибо отрицание истины тоже выдается за истину. Лучшее опровержение Делеза – сам Делез.
Это обращение к Делезу для нас необходимость, ибо говорить об Ильенкове, оставляя в стороне современность – значит не договаривать. Контекст «мировой философии» обязывает вообразить Ильенкова в ландшафте современной философии, хотя о философии Делеза Ильенков нигде не говорит. А вообразив, мы находим, что «аргумент» Делеза был загодя опровергнут Ильенковым. Это опровержение и есть диалектика, понимаемая как логика и теория познания. Здесь и резюмируется понимание предмета философии, тождества мышления и бытия.
То, что мы находим в этом контексте у Ильенкова, есть «обыкновенная диалектика»: нет бесконечного без конечного, относительного без абсолютного, текучего без устойчивого, всеобщего без единичного, истины без заблуждения (и обратно)… Течение есть лишь там, где есть неподвижные берега. Задача мышления и состоит в том, чтобы удержать оба полюса и найти тот «момент истины», когда они тождественны. А это всегда нечто третье. Это – объективная реальность. Такие же противоположности «онтология» и «гносеология». «Момент истины» — их тождество. Это и есть диалектика. Мысль, взятая как некое идеальное бытие, как «мыслимое бытие» или как «бытие мысли» самой по себе, без отношения к тому, что находится вне мысли, т.е. к материальному бытию, есть не мысль, а бессмыслица. Например, если «мыслимое» это порядок (устойчивое, инвариантное, гармоничное, прекрасное), то работа мысли (научной и художественной) состоит в упорядочении хаоса, т.е. того, что вне мысли. Работа творческого художественного мышления в том и состоит, чтобы обнаружить меру в безмерном, выразить невыразимое, отразить безобразное в образе, как это сделал древний миф, родивший искусство. Скульптор удаляет в глыбе мрамора все лишнее. Но что было бы со скульптором и скульптурой (как искусством), если бы они вообще обходились без этого «лишнего»? Прекрасное смотрелось бы в прекрасное, порядок любовался бы порядком, а Микельанджело обречен был бы всю жизнь ваять одни и те же «идеалы». Если мысль – это порядок (закон, организация, гармония и т.п.), то как же ей обойтись без беспорядка, где взять этот «материал» для работы? Не в самой же себе. Нет «Я» без «не-Я», идеального без материального, бытия в мысли без бытия вне мысли. Без этого мысль превращается в пустое и пресное тождество с самой собой: порядок есть порядок, «Я»=«Я». Поэтому такая «философия тождества» обречена, поднатужившись, выделять из «Я» «не–Я», чтобы было с чем играть и с чем заигрывать. Нет мышления без бытия вне мышления! Те, кто намерены обходиться без него, вынуждены его выдумывать, как Фихте. Но зачем же его выдумывать, если оно уже есть? «Умный» идеализм есть поэтому поставленный на голову материализм. Ну а глупому закон не писан: он обходится одной своей «экзистенцией». Для него все, что вне этой экзистенции, способно порождать только страх, тошноту, отвращение. Безобразное, т.е. вне мысли сущее, для него всегда безобразное. Остается только любоваться собственным образом (но и тут сталкиваться с чем-то пугающим).
Разум – двуликий Янус. Одно его лицо обращено к природе и истории, другое — к культуре. Работа разума и состоит в том, чтобы находить порядок в хаосе, меру в безмерном, определенное в неопределенном, чтобы найти образный эквивалент «кипящей похлебке богов», без которой миф – плоская нравоучительная сказка. Разве античная художественная классика не олицетворяет стихию? «Нечто» — устойчивые, упорядоченные, гармоничные формы искусства и науки – ничто без этого «своего иного». А вот в концепции «социологии познания», социально-исторической детерминации «парадигм» науки, в идее культурно-исторического «контекста» второе лицо Януса, обращенное к объекту «в себе и для себя», к тому, что вне культуры, старательно подретушируется под первое, обращенное к культуре. А поскольку культуры-то разные, и географически и исторически, то первое лицо само начинает двоиться, троиться и т.д., становится многоликим. Вот вам и «методологический плюрализм». Хаос, стихия, изгнанные через дверь, возвращаются через окно и поражают саму культуру. Именно эту «болезнь культуры» и продемонстрировали на себе «клиницисты культуры» — постмодернисты. Если «всегда мятежная» (Делез) реальность есть «лишнее», то она мстит самодовольному научному и художественному разуму, делая его самого лишним – «нонсенсом», бессмыслицей.
В самой диалектической традиции поэтому необходимо различать две разные «линии». Одна – это «диалектика крайностей», диалектика изолированных противоположностей. Изолированные, размещенные в разных измерениях противоположности обнаруживают скверный характер, норовят вывернуться наизнанку, показав такому «диалектику» фигу: ухватившись за одно, получаем противоположное. Добро превращается в зло, истина в заблуждение, необходимое без остатка переливается в случайное – «крайности сходятся», смысл рождает бессмыслицу. Так обстоит дело со всеми абстрактными противоположностями. Диалектика здесь превращается в некую игру взаимоисключающих и уничтожающихся «смыслов», ведь эти абстракции соотнесены только друг с другом, но не с «третьим». Абстрактно противостоящие друг другу противоположности оказываются столь же абстрактно тождественными. Абстрактные противоположности – это и есть «бытие в мысли», бытие, фиксированное как абстракция, которая в свою очередь фиксирована в слове.
Абстрактное противопоставление мышления бытию превращает мысль просто в бытие, но бытие особого рода. Мысль, противостоящая бытию, есть, т.е. сама имеет бытие, отличное от бытия как противоположности мысли. Как такая противоположность мысль сама имеет бытие – в языке. Но язык – это совокупность материальных «вещей» — знаков, т.е. просто «бытие», знаки имеют значения и смыслы, но эти значения и смыслы рождаются не из соотнесения знаков с объектом, но из взаимоотношений самих знаков как объектов! Смыслы и значения обитают там же – в языке. Вместо мысли мы получаем просто бытие, вместо духа – тело. Именно это и продемонстрировал постмодернизм.
Противопоставление мышления бытию, логики — «онтологии» рождает нелепость. Ильенков иронизировал: что же это за наука о мышлении, если в ней мысль ученого о вещах выстраивается по правилам одной логики, а мышление о мышлении – по правилам другой. Логика науки тут расходится с формалистической наукой логики. Получается, что ученый мыслит об объектах вне мысли, а логик намерен исследовать мысль, но без объектов в этой мысли. Тогда от мысли остается только оболочка – речь. Догма о специфике законов мышления заводит логику в тупик, где она уже перестает быть наукой о мышлении.[6] Но и отождествление мышления и бытия, не признающее противоречия, тоже рождает нелепость: мышление само становится бытием.
Классическая традиция в диалектике, состоящая в понимании ее как логики, у Ильенкова сопоставляется не только с двумя противоположными версиями диалектики, но и с двумя версиями самой логики. Одна из версий логики ведет свою родословную от софистов, скептиков и стоиков и состоит в отождествлении законов и форм мышления с правилами и формами языка. Всякая логическая проблема здесь превращается в риторическую, лингвистическую, семантическую и т.д. Другая – от Аристотеля, Спинозы, Канта, Гегеля. Первую мы и именуем «логикой смыслов», понимая под этим то, что в советской философии называлось «субъективной диалектикой».
- 7.Приведем простой пример диалектики абстрактного тождества противоположностей.
«Иван – отец Петра», «Петр – сын Ивана». «Отец» и «сын» — исключительно соотносительные определения. Нет отца без сына и нет сына без отца. Если определенность Ивана берется исключительно в рамках этого отношения, то получается, что Иван как отец предполагает Петра как сына, поэтому только с рождением Петра рождается и отец. Мы конечно понимаем, что с рождением Петра Иван не рождается, рождается его соотносительная определенность именно как отца. Если же брать это отношение «рамочно», то высказывание «Иван отец Петра» легко выворачивается и превращается в «Петр отец Ивана». «Смысл» понятия «отец» находится в Петре, а смысл понятия «сын» – в Иване. Получается бессмыслица. В этом «рамочном» отношении противоположные смыслы тождественны: смысл понятия «отец» полагает смысл понятия «сын», а смысл понятия «сын» полагает смысл понятия «отец». Противопоставленные «смыслы» оказываются тождественными, а различение их – бессмысленным. Таковы все абстрактно взятые псевдодиалектические противоположности. Если за рамками такого отношения противоположностей нет ничего, то смысл этого отношения равен нулю.
Но если взять то же самое отношение не «рамочно», то высказывание обретает смысл. Если Иван не обязательно есть отец Петра, но и отец Сидора, и если он сам по себе вовсе не отец, то высказывание «Иван отец Петра» обретает содержательный смысл. Оба определения – и «отец» и «сын» — обретают не только соотносительный, релятивный, но и «абсолютный» смысл: «Иван родил Петра». Процесс рождения, в котором «Иван» — активная и независимая переменная, а «сын» — зависимое, производное и есть то третье, к которому отнесены оба исходных определения.
У Гегеля «чистое бытие» превращается в «чистое ничто», что говорит о неистинности, бессмысленности этих определений. Истинно – становление, где бытие и небытие – лишь моменты истинного бытия – становления. Гегель наивно (скажем так) полагал, что мысль о чистом бытии, ускользающем в небытие, рождает новую мысль – о становлении. Но разве движение от ничего («чистое бытие») к ничему («чистое ничто») может породить что-то кроме пустоты мысли?
Возьмем теперь другой пример – посложнее. Делез в «Логике смысла» начинает «низвержение Платона» следующим «дискурсом»: Алиса в «Зазеркалье» находит, что она увеличивается. Она стала больше, чем была. Но разве, рассуждает Делез, это не означает, что она одновременно стала меньше, что «Алиса сжимается»? «Больше» и «меньше» — релятивные определения. Если сегодняшняя Алиса стала больше, чем была, то вчерашняя Алиса стала меньше, чем сегодняшняя (в Петре Иван становится отцом). Но, рассуждает Делез, это ведь одна и та же Алиса. Следовательно, она одновременно и больше и меньше. Более того, если она больше, то именно поэтому она и меньше. Это – «рамочное», т.е. чисто релятивное определение.
Но разве нет здесь ничего абсолютного? – Есть, конечно. Алиса растет не только относительно самой себя, но и относительно всех других вещей вокруг. Больше столетнего тополя она не стала, и меньше кошки тоже. Чтобы получить делезову Алису, необходимо, чтобы в том же темпе росла и вся вселенная. Но и относительно самой себя, т.е. и в растущей вселенной, Алиса растет абсолютно: растет число клеток. Весь трюк заключается в софизме. Здесь мы имеем дело с двумя Алисами, а не с одной. Одно тут только имя, слово. Вчера была «Алиса маленькая», сегодня есть «Алиса большая». Здесь ведь не тождество Алис большой и малой, а тождество процесса роста, одного и того же процесса, из которого мы вырываем две абстракции: «Алиса вчера» и «Алиса сегодня». Две Алисы – это два конца одного и того же, а они вовсе не тождественны. Тут то же самое, что и с Иваном и Петром: Иван родил Петра, а это совсем не то же самое, что один смысл «родил» второй и обратно. Смысл как бытие в мысли совсем не то же самое, что бытие вне мысли. Отбросьте бытие вне мысли и вы получите бессмыслицу.
Если все дело в словах и их смыслах, в «логике смыслов», то мышление – это всегда «скольжение по референту», как говорит Делез. То есть, никакого объективного смысла нет. То, что существует объективно, объект, бытие, природа, вещь – это только хаос, лишенный порядка материал, который можно толковать и так и сяк. Вещь сама по себе бессмысленна. Она допускает любое «осмысление», т.е. любое толкование. Она – чистая возможность смыслов. Смысл полагается субъектом, мыслью, точкой зрения, «видением». Я вижу так, вы видите иначе. У вас один смысл, у меня другой, да и сам я могу скользить по смыслам сколько угодно.
Такого рода «дискурс» – тоже продукт отождествления мышления с языком, смысла со значением слова. Слово – знак, бирка, этикетка. Значение – вещь, на которую навешана бирка или наклеена этикетка. Осмысление – это и есть наклеивание этикеток. «Мы мыслим этикетками», - иронизировал Бергсон.
Совсем иной результат мы получим, если будем исходить из другой схемы: знак-значение-смысл. Слово – знак вещи. С этим все согласятся. Но не только знак вещи. Как знак вещи слово – имя. Слово – знак смысла. Вещь сама – знак. Объективно она может иметь и имеет разные значения, т.е. «назначения», выполнять разные функции, играть разные роли. Смысл вещи объективен. И он всегда конкретен. Одна и та же вещь может иметь разные значения, т.е. объективные смыслы. И один и тот же смысл может натурализоваться в разных вещах. Для волка ягненок – обед, для голодного индивида – блеющий бифштекс, а для сытого индивида – «ах, какая прелесть!» Для терпящего бедствие автолюбителя и женин чулок – ремень генератора (километров 20 проедешь). Если у вас под рукой нет отвертки, то «смысл отвертки» обретает ваш собственный ноготь, на отвертку вовсе и не похожий. Когда мы говорим: «часы», то имеем в виду именно объективный смысл часов – измерять время. Поэтому «часы» для нас – не только вот этот механический аппарат, но и песочный прибор, палочка, воткнутая в солнечный день в песок, солнце над головой, на худой конец – собственный пульс. Вещь – одна, смыслы разные, смысл один – вещи разные. Так что дело вовсе не в «точках зрения».
Поэтому если вещь – знак функции, а функция – это и есть смысл, то слово – тоже знак функции, а не только вещи. Функция слова, его смысл – служить инструментом различения и отождествления смыслов. Подытоживая, можно сказать так: вещь обретает смысл тогда, когда ее функциональное бытие поглощает ее натуральное бытие. Тогда она становится элементом «языка». Мы и говорим не только о языке слов, но и о «языках мозга». Генетический код тоже язык и т.д. Отношение «знак – значение», т.е. «слово – вещь» производно от объективного отношения «вещь – функция». На функциональном понимании психики вообще и мышления в особенности и настаивал Ильенков.
- 8.Второе следствие идеалистической версии тождества мышления и бытия – это «социокультурный агностицизм».
«Бытие мысли» — это, например, богдановские схемы «социально-организованного опыта». Общим для Гегеля и для Богданова (как идеалистов), — писал Ильенков, — является представление, что мир «социально-организованного опыта и есть для индивида тот единственный «предмет», который этим индивидом «усваивается» и «познается», — тот единственный предмет, с которым индивид вообще имеет дело и за которым уже ничего более глубокого, упрятанного нет. А вот мир, существующий до, вне и независимо от сознания и воли вообще (то есть не только от сознания и воли индивида, но и от общественного сознания и общественно организованной «воли»), сам по себе этой концепцией принимается в расчет лишь постольку, поскольку он уже нашел свое выражение во всеобщих формах сознании и воли, уже освоен в «опыте», уже представлен в схемах и формах протекания этого «опыта», уже включен в него».[7]
Этим поворотом мысли и характеризуется для Ильенкова идеализм вообще – и платоновский, и берклианский, и гегелевский, и карнаповско-попперовский, и хайдеггеровский, и гадамеровский… Это и есть «секрет идеализма». Следовательно, речь идет о подмене двух разных предметов одним.
Что отсюда следует?
Ильенковская концепция идеального – это второе (после Платона) «открытие» объектов «особого рода», включившее не только признание их особого статуса, но и точное указание на ту особую объективную реальность, внутри которой только и существует идеальное во всех его модусах. Это реальность культуры, понятой широко, как сфера общественно-человеческой деятельности, существующая не в голове, но и не без помощи головы. Именно в эту коллективную работу вовлечена человеческая психика, сознание, разум, воображение, память, в ней эти способности и формируются. Здесь коллективный опыт поколений опредмечивается, объективируется, становится вследствие этого общедоступным, а правила его, схемы и законы – общезначимыми. Эти схемы, правила, нормы, запреты и предписания не выводимы из индивидуального опыта и вместе с тем обязательны к исполнению индивидом. С ними индивид обязан считаться даже больше, чем с собственным опытом. Ильенков не останавливается даже перед тем, чтобы передать силу воздействия этих коллективно выработанных схем и норм словечком «принудительно», дабы резче, контрастнее подсветить тот момент объективности, без учета которого все разговоры об идеальном оказываются пустопорожней болтовней. Уберите этот момент и вы получите лишенный всякой устойчивости, определенности, порядка, формы поток «событий» и соответствующий ему «поток переживаний», хаос, в котором барахтается и лишенное идентичности человеческое самосознание, «Я».
Но все это только одна сторона дела, его половинка. (К сожалению, многие авторы, уверенные, что следуют по пути Ильенкова, только эту половинку и имеют в виду). А ведь в этом словечке «принудительность» скрывается очень не простая проблема. Проскочив мимо этой проблемы, мы получим из ильенковской концепции то, что можно было бы назвать «культурноисторическим агностицизмом».
Поясним сказанное. Принципиальная, бескомпромиссная позиция Ильенкова в вопросе о природе идеального характеризуется прежде всего следующей посылкой: способы и схемы деятельности человеческого индивида (как чувственно-предметной, так и интеллектуально-духовной) в отличие от животного не даны ему вместе с организацией его тела и органов этого тела, не закодированы в его анатомии и физиологии, строении его мозга, в структуре инстинктов. В этом (и только в этом) смысле человек действительно есть tabula rasa, существо безусловно пластичное, способное действовать по меркам всех вещей. Можно сказать и так: чем меньшую роль в жизнедеятельности человека играют «закодированные структуры», фиксированный порядок, тем свободнее он и тем более адекватно может постигать порядок вещей. Это и спинозовская мысль.
Если мы на место биологической организации и порядка поставим социокультурную организацию и порядок, то изменится ли что-либо принципиально? И там и здесь схемы деятельности будут не столько «даны», сколько «заданы», и там и здесь они будут действовать «принудительно». Тут-то и появляется «бюрократия чистого разума». Как в этом случае отличить человека от дрессированного животного, медведя на велосипеде, действующего по схемам, чуждым его биологии? Как мы при этом ни понимали бы культуру, какие слова не изобретали бы для описания «духовной вертикали» той или другой культуры, найти ответ на поставленный вопрос нам не удастся. Если китаец никогда не поймет Канта, а европеец Конфуция, то взаимодействие культур, да и само существование в одной культуре – все это езда «медведя на велосипеде»: присвоение как чужих, так и своих социокультурных схем ничем не будет отличаться от дрессировки. (В сущности говоря, вся социокультурная или культурно-историческая традиция дальше этой схемы не пошла и проблему «принудительности» не разрешила. Желающий может в эту схему, «пропозициональную функцию» подставить любые громко озвученные имена философии ХХ века – схема останется той же). Но если схемы деятельности человека «закодированы» в его общественном, неорганическом теле, в культуре, и действуют оттуда на него «принудительно», то чем же будет отличаться принудительность второго рода от принудительности первого?
Социокультурные организмы, по мнению ряда философов ХХ в. (О.Шпенглера, например), инкапсулируют сознание человека, делают «мир человека» закрытым, отгороженным и от реальности и от других социокультурных миров. Эти мыслители были бы правы, если бы «экраны» культуры, на которых начертаны схемы мышления и действия, были непрозрачны, т.е. если бы строительство культуры состояло исключительно в опредмечивании, овеществлении коллективных представлений. Однако в реальности дело обстоит так, что опредмечивание предполагает обратный процесс – «распредмечивание», обнаружение объективного смысла культурных стереотипов в процессе контакта индивидуального разума с миром вне культуры. Мыслить, как и чувствовать, должны мы сами. Если бы этого не было, если бы «яйцо» не становилось прозрачным, следовательно, если бы сами стереотипы не испытывались на истинность в индивидуальном опыте, развитие культур и их взаимодействие были бы невозможны. В лучшем случае можно было бы говорить лишь об изменениях, мутациях культурных «текстов», механически обусловленных внешним воздействием, но не об имманентном развитии. Но тогда сравнение разных культур не пошло бы далее меланхолических констатаций: в одних культурах запрещается есть свинину, а в других не возбраняется кушать и человека. Одна нисколько не лучше другой. В одних верят в нейтрино, в других – в духов леса. Такова жизнь. Между тем любой культуре присуще самоотрицание, внутреннее беспокойство, сократово начало, «овод» сомнения. И в любой культуре изначально «спрятана» склонность к протесту, к контр-культуре. Даже в любой религии сидит червь ереси. И точно так же сплошь и рядом протест вновь обретает облик культурного стереотипа, канонического «текста» и затем все начинается сначала.
Ключом к решению загадки этого процесса является последовательно проводившаяся Ильенковым мысль о том, что человек по природе своей есть универсальное существо, не отождествляющее себя ни с одной заранее данной программой, потенциально абсолютно пластичное, враждебное предначертанной схеме, будь то анатомия его тела, нейродинамические структуры, инстинкты или культурные стереотипы. Неспецифичность и незапрограммированность – сущностная специфика человека, способного в отличие от животного действовать по схемам всех вещей во Вселенной и по схемам любой культуры. Поэтому он обречен быть «протестантом». Но актуально он все же запрограммирован данной культурой, более того, он не может быть протестантом, не будучи благочестивым католиком, и наоборот. Ведь без культурной программы он только животное (Маугли) или автомат. Это реальное противоречие, взрывающее любое «социокультурное яйцо». Человек существует не просто в культуре, но в истории, которая и есть способ движения противоречия, порождения и разрешения его. Культура учит, индивид учит-ся, учит себя сам, заново открывает общественные истины как истины собственного опыта, как разумные схемы собственной деятельности. Учительство и ученичество – два полюса мышления, оно – в пересечении этих координат. Учительство без ученичества и дает «бюрократию культуры». Именно это имел в виду Ильенков, когда писал о том, что школа должна учить мыслить.[8] Научение в конечном счете и обусловливает смену программ.
К сожалению, очень многим и в нашей стране, и «на Западе» кажется, что достаточно включить в состав представлений логики, психологии, «философии науки» и т.д. «волшебное слово» — «социально-исторический» (контекст, детерминация и т.п.), как все чудесным образом станет ясным. Имеете дело с каким-то своеобразным способом мышления индивида данной культуры – ищите глубоко спрятанную в истории этого социума структуру – «архетип». «Вульгарная социология» — то же самое. Мы ничего не имеем против такого рода исследований в области психологии или «социологии познания», но надо помнить, что ссылка на «социум» (для объяснения мышления) требует серьезных жертв. Ну, к примеру, один из основоположников «социологии» так пояснил понятие «социальный факт». Если вы вышли на улицу, а дождя нет, но вы все же раскрыли зонтик, потому что на улице все стоят с раскрытыми зонтами, то это уже «социальный факт». Но действительно ли история с зонтиком указывает на социальный факт? Человек, раскрывший зонтик только потому, что его раскрыли другие – вовсе не человек, а картонный паяц, которого дернули за ниточку, автомат, действующий по бихевиористской схеме «стимул-реакция». Точно так же смеющимися идиотами-автоматами выглядят те, кто смеется не потому, что смешно, а потому что смеются другие.
- Третье следствие идеалистической версии тождества мышления и бытия – формализм.
Если мышление следует только тем предписаниям, которые оно имеет в самом себе, то следование этим схемам, стандартам, стереотипам, алгоритмам оказывается слепым, формальным, не считающимся с бытием вне мысли, вне этих схем, вне языка (язык для Хайдеггера и Гадамера – «родной дом бытия»).[9] Такое мышление равнодушно ко всякому «опыту», оно, как говорил Леви-Брюль о первобытном мышлении, «непроницаемо для опыта».
В этой связи необходимо сказать следующее.
Среди тех смыслов термина «идея», которые дает Платон (всеобщее, неподвижное, определенное, сущность, умопостигаемое, истинное, объективное, образец, идеал), есть и такой: идея – это и эйдос, вид, образ, лик. Это и есть тот момент, который упускается из вида, когда говорят об идеальном вообще и об идеальном в его ильенковском понимании. Этот смысл наиболее убедительно выявил и выпукло «изобразил» А.Ф.Лосев еще в ранних работах, в частности в «Логике музыки». «Эйдос» по Лосеву — это «скульптурное изваяние смысла». Предметнозримое, пластически воплощенное, объективно данное явление, явленность смысла. Без этого «оттенка» смысла термина «идея» вся платоновская, а вместе с нею и ильенковская концепция рушится.
Для Платона, для Лосева и для Ильенкова существенно, что мышление вовсе не есть оперирование «чистыми» смыслами, мысленными сущностями, подаными разуму в знаках, в языке. Мышление есть и для Платона, и для Лосева, и для Ильенкова именно «умо-зрение», т.е. феномен, в котором одинаково важны обе составляющие – и ум и зрение. У Платона оба элемента налицо. Мыслить надо «воочию», как писал И.Ильин, имея ввиду Гегеля, надо видеть то, что мыслишь, смотреть на мир «умными очами» (Ломоносов). В схоластической традиции из «умозрения» зрение исчезло, испарилось, остался только ум, вследствие чего и ум выродился в умение употреблять знаки, схемы мышления превратились в схемы языка. Но это в схоластической традиции философии, а вот в искусстве, например в поэзии, платонов «эйдос» просто неустраним: «Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной». Это Тютчев о России. «Не поймет и не заметит»: чтобы понимать, надо видеть, чтобы видеть, надо понимать.
Обратимся теперь к текстам Ильенкова. Всюду, где речь идет об идеальном, имеется в виду непременно «чувственно-сверхчувственное» бытие. Идеальное для Ильенкова – это представленное, репрезентированное бытие, одно в другом, одно в образе другого. Существенно и то, что репрезентируется, и то, в чем репрезентируется. Первое – незримо, второе – зримо. Т.е. это смысл действия, форма деятельности в чувственно-воспринимаемой форме вещи и форма вещи, воспринятая как форма действия. Это именно эйдос, т.е. предметно осмысленное действие или деятельно осмысленный предмет, образ действия, представленный в образе вещи. Попробуйте пересказать (или нарисовать, или изваять) какую-нибудь сонату Гайдна. Смысл – не вне, а в самой звучащей материи, он – логика ее организации, а не какая-нибудь «программная тема».
Стоит, пожалуй, пояснить это на простеньком примере. (Такого рода приемов не гнушались и классики естествознания. Это и «яблоко» Ньютона, и «демон» Максвелла, и кошка в одном контейнере со счетчиком Гейгера у Шредингера). Спросите городского жителя, никогда не бравшего в руки ни топора, ни колуна, никогда не рубившего ветки и не коловшего чурбаки: «Чем отличается топор от колуна?» Что он ответит? А то, что топор – это тот же колун, т.е. клин, с той лишь разницей, что топор будет потоньше и поострее, а колун потолще и тупее. Как вещи они мало отличаются друг от друга. А вот смыслы – разные, даже прямо противоположные. Попробуйте колуном рубить гибкие ветки – рискуете остаться без глаза. А попробуйте топором колоть вязовый чурбак – рискуете остаться без топора, увязнет в волокнах дерева. Горожанин видит вещь «саму по себе», ее собственную форму. А вот лесоруб видит в форме вещи схему действия разрубания или расщепления и схему самого объекта действия – структуру волокон дерева. Одно сквозь другое. Действию расщепления, разъединения волокон соответствует колун, действию рассечения, перерубания волокон – топор. Диаметрально противоположные смыслы. Схемы культуры и есть схемы вещей вне культуры, но уже освоенные культурой. Вовсе не всякая вещь может быть вовлечена в данную культуру, освоена в ней. Но только та и в той мере, в какой собственная ее природа, ее «схема» совместима со способами ее бытия в культуре, в деятельности и лишь в той мере, в какой ее собственные качества совместимы с функциональными схемами. Схемы мышления – это и есть для Ильенкова уже освоенные в деятельности, уже отраженные в ней природные, вне культуры и вне деятельности сущие формы, свойства и законы вещей. «Внутренними» для мышления, для культуры они оказываются только тогда, когда они одновременно и «внешние» для них. В противном случае субъект мышления – это автомат, следующий логике своей собственной организации, заложенной в нем «программе».
Тождество схем деятельности и схематизма объекта, благодаря которому только и возможно познание, всегда не полно, ибо ассортимент схем, развернутых в культуре, всегда ограничен. Понятно, что никакая культура, никакой ассортимент схем не заменит способности суждения. Если этого не будет, если следование правилам будет слепым, если лицо двуликого Януса, обращенное к культуре, не поворачивается тут же к природе, обратно, то вместо человека мыслящего мы получим того упоминаемого Кантом дурака, который, следуя правилу дергать все четвероногое, рогатое и волосатое за то, что висит у него сзади, доит козла, а другой, тоже следуя правилу, подставляет решето. Применение правила должно быть уместным, а универсального правила, правила применения правил, нет и быть не может. Янус не может смотреть только в сторону культуры. Он непременно ослепнет. Если всякий «текст» следует брать «в контексте», то этим контекстом не может быть только культура, но диалог культуры и природы, культуры и того, что «кипит в котле у чародейки истории» (Маркс). Нет «идеи» без «эйдоса». Идея без эйдоса способна рождать только формализм.
- Идеалистическая версия тождества мышления и бытия таит в себе и еще одну «ловушку». Отождествление бытия вне мысли с бытием в мысли, «логики вещей» с «логикой смыслов» неизбежно ставит вопрос о бытии самой мысли, самого «смысла». Если «смысла» нет в вещах, то где он имеет наличное бытие? Ответ ясен: в языке. Здесь «выражаемое» тождественно «выражению». Обеспечение этой тождественности и есть задача формализации.
Интересно, что мир природный и исторический, еще просторный и прозрачный для Гегеля, сморщивается и сокращается, обретая последнее прибежище в языке. Так, в герменевтике «проникновение в тайны «подлинного бытия» рисуется…как акт раскрытия потаенных «смыслов» и «значений» феноменов человеческого существования, то бишь образов жизни «духа», обретающих самосознание в языке и посредством языка. Язык предстает тут как «родной дом бытия» (Хайдеггер), а герменевтика – как естественный способ проникновения в тайны этого «дома».[10]
Предметом оказывается, таким образом, не бытие, а сама мысль, обретшая наличное бытие в языке. Вместо двух разных предметов появляется один: смысл соотносится со смыслом, различает себя от самого себя, отождествляет различенное, кувыркается сам через себя, утешая самого себя иллюзией, что тавтология способна рождать знание.
Посмотрим, а что при этом получается на деле. И сразу ответим, чтобы было ясно, куда мы «рулим»: получается не диалектика, а софистика, элементарная подмена предмета.
- Многие из числа моих сверстников вероятно помнят, с чего началось и чем закончилось для некоторых из них знакомство с символической логикой. Широко известная в те времена книга А.Тарского «Введение в логику и методологию дедуктивных наук» начиналась тем, что автор уже на первой странице выстреливал в читателя-новичка следующим: «Если дважды два – четыре», то «снег бел». Вероятно, автор был прав, поступая таким образом, тем самым он с порога убивал у многих какое-либо желание входить в символическую логику, ибо сразу же оставлял за порогом тех, кому никогда не стать «символическими логиками». Пишущий эти строки – в числе тех, кто сразу же начинал ломать голову над смыслом двух высказываний: почему это если дважды два-четыре, то снег бел. Какой смысл вкладывал в это Тарский, что имел ввиду, говоря это. Вот поэтому-то те, кто не прошел тест, пошли в ученики не к Тарскому, а к Ильенкову. А смысл сказанного Тарским простой: не ищите в высказываниях смысла, содержания: символическая, т.е. формальная логика как раз и есть исследование мыслей, лишенных содержания, точнее – мыслей, как бы лишенных содержания. Она исследует лишь форму мысли, т.е. высказывания как таковые. Это ее «профессион де фуа». Кто этого не понимает, тому не место в храме символической логики. Смыслы в ней есть, но это другие смыслы.
Те, кто чуточку постарше, помнят, как на студенческом семинаре один «формальный логик» сказал А.А.Зиновьеву, непочтительно высказавшемуся об этой науке: «У вас всей жизни не хватит для овладения этой чепухой», на что Зиновьев ответил: «Стану я тратить жизнь на такую чепуху!» Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Несколько позже я был свидетелем следующего: проходя мимо какого-то арабского посольства, Ильенков, ткнув пальцем в «вывеску» с непонятными закорючками, сказал, смеясь: «Вон Сашкина философия!»
Символическая логика, конечно, не чепуха. И делает она работу и трудную, и важную. И не всякому такая работа «по зубам». И при всем этом, она действительно исследует мысль без содержания. А если мысль – это смысл, то и без смысла. Смысл мысли сообщает то, что является объектом мысли, то есть, говоря словами Ильенкова, — объект вне мысли. Если же отношение мысли к объекту устраняется, то объектом становится бытие самой мысли, мысль сама берется просто как бытие, без отношения к чему-либо другому. Тогда она – язык. Наука о мышлении в этом случае неизбежно становится особым видом лингвистики. Если язык – это «родной дом мысли», то и изучает она не мысль, а дом мысли, ее форму. Если обычный язык неопределен, многозначен, плохо организован, часто и просто неряшлив, то формальная логика исследует язык именно в его строгой функциональной определенности, т.е. именно как форму мысли, а не аффекта, воображения, «потока переживаний», «потока сознания» и т.п.
Иными словами, если мысль живет в языке как родном доме, то формальная логика наводит порядок в этом доме. Одновременно (и это более важно) она изучает природу порядка и вывешивает при входе в дом список правил. А главное правило таково: о чем бы ты ни мыслил, ты не должен противоречить самому себе, не должен подменять предмет мысли другим. Рассуждай о чем угодно, но последовательно и т.д. Думая о чем либо, ты обязан думать и о том, насколько точно и определенно ты выражаешь свои мысли. То есть ты должен думать не только о бытии вне мысли, но и о бытии самой мысли, о своем языке. Точной и определенной мысль будет только тогда, когда она обретает точную и определенную форму в языке, т.е. когда она сама есть точно и определенно организованная вещь. Это то, что я и подобные мне так и не уяснили, стоя на пороге «введения» в символическую логику.
Ильенков тоже ничего плохого не хотел сказать о формальной логике как таковой. Он протестовал только против того, что порядок в «доме» мысли, т.е. в языке и есть порядок самой мысли. Он ничего не имел против символической логики (или как там ее еще называют). Он был против той философии, которая порядок в доме мысли и выдает за порядок самой мысли. В этом смысле он сам был «формалистом»: взявшись говорить о Фоме, не подменяйте его Еремой. Занимайтесь языком мысли, но не говорите, что язык – это и есть мысль. Мысль о бытии вне мысли выражается в языке. Но это не значит, что язык выражается в мысли, что речение и есть мышление. Sache (вещь) и Sage (сказывание) не одно и то же.
Мышление есть активная деятельность субъекта, направленная на объект, на то, что вне субъекта. Оно всегда есть мышление «О». Только «внутри» этого деятельного отношения мысль и существует, имеет, так сказать, бытие. Это – деятельное бытие. Мышление, взятое независимо от бытия, само по себе, вовсе не есть мышление. Это то же самое, что и любовь без возлюбленной. Тут мы и имеем дело с формализмом. Когда мы смотрим на звезды, — писал Ильенков, — мы не видим свой глаз. А когда мы хотим увидеть свой глаз, хотя бы в зеркале, мы должны отвернуться от звезд.[11] Одно из отличий мышления от созерцания состоит в том, что если созерцание действительно для себя самого только в движении взгляда от предмета к предмету, то мышление действительно для себя самого, предметно для себя в речи. Формализация и есть тот случай, когда мышление, отворачиваясь от объектов вне него, сосредоточивает внимание на самом себе «как таковом». Но видит при этом оно не себя, а лишь свою вещную оболочку, язык, речь, подобно тому, как взор, отвернувшись от звезд, видит не себя, а только орган – глаз. Вместо астрономии тут получается анатомия, вместо логики – лингвистика. Формализация есть, конечно, не отбрасывание содержания. Она есть отображение содержания в форме, структуры содержания в структуре формы, т.е. в языке. Идеалом формализации является полная редукция содержания к форме. При этом содержание уже устраняется и форма сама становится содержанием. Противоречие формы и упраздняется, но оно вновь возникает в отношении языка и метаязыка и т.д.
Овеществление деятельного бытия мысли в языке и окостенение содержательной логики мышления в формальной структуре языка есть переход мышления из фазы движения в фазу покоя. Как и в труде, в результате деятельности мышления – в слове, речи, языке – деятельность угасает, она обретает просто вещное бытие. «Мышление не продукт действия, а самое действие, рассматриваемое в момент его совершения...».[12] Водворение беспокойной мысли в уютный и упорядоченный «родной дом», где ей уже нет дела до того, о чем она, до ее содержания, то есть формализация мысли и рождает парадокс. Мысль мстит за свое заточение.
- Вместо заключения.
В работах Э.В.Ильенкова мы находим ряд идей, имеющих большое (если не сказать сильнее) эвристическое значение для решения проблем, которые он сам не ставил и не решал. Такова, например, его концепция идеального. Здесь мы предложим наше решение одной такой проблемы, причем проблемы строго логической, отправляясь от ильенковского понимания идеального – решение парадокса теории множеств.
Этот парадокс был обнаружен Расселом и Уайтхедом при анализе опыта построения Г.Фреге формализованной арифметики. Понятие числа у Фреге выводится из понятия множества. При этом в содержательной теории множеств обнаруживаются формально-логические противоречия.
Интересный подход к проблеме парадоксов мы находим у С.Н.Мареева, применяющего к этой проблеме «деятельностные» представления. Число, показывает С.Н.Мареев, «было определено как множество множеств, эквивалентных какому-то множеству – эталону». Такое определение, пишет он, содержит в себе порочный круг: число определяется через множество – эталон, которое, будучи определенным множеством, само включается в множество всех множеств, эквивалентных ему же, т.е. имеет своим элементом самого себя. Источник парадокса С.Н.Мареев видит в том, что статическое (множество) выражается динамически (счет), а это неустранимое противоречие. Число – понятие динамическое, оно связано со счетом, а счет – это деятельность, операция. Если оставить в стороне деятельностный аспект, то вместе с этим мы потеряем и число, останется только множество.[13]
Это верное соображение. Первобытный пастух не знает числа, не владеет счетом. Но он знает, сколько у него овец в стаде. Спросите, и он ответит: «Столько же, сколько и зарубок на моем посохе: одна зарубка – одна овца». Множество зарубок – это эталонное множество, но это еще не число. Отличие числа от эталонного множества в том, что определенный эталон сам есть множество, имеющее ту же мощность, что и представленные им множества, а определенное число есть одно, в котором представлено многое. Число поэтому идеально.
Точно так же на вопрос: «Сколько весит буханка хлеба?» — можно ответить: «Столько же, сколько и вот эта гиря». А сколько весит сама гиря? В ответ нам предъявят ее «номинал», значок, отлитый на ней: «1 кг». Но ни одна гиря на свете не соответствует своему номиналу. Как реальный объект она только кусок чугуна, который сам по себе всегда либо больше, либо меньше номинала. Точно так же и эталонный метр, платиновый стержень, хранящийся в Палате мер и весов, никогда не равен номиналу: он то удлиняется, то сокращается в зависимости от температуры хранилища.
Все это говорит о том, что эталон имеет бытие только в деятельности – деятельности измерения. Здесь он обретает функциональное бытие.[14] Наивностью было бы думать, что эталон – это только то, что существует «в уме», имеет только «ментальное» бытие. Идеальный метр реален в Эйфелевой башне, которая стоит и не падает, потому что в идеальном представлено реальное, а в реальном идеальное. Поэтому верно, что без множества нет числа, но нет его и без счета, деятельности.
В числе действительно обнаруживается противоречие между статическим и динамическим, между созерцаемым, натуральным множеством и множеством, представленным в действии. Это верно. Но это не вся истина. Верно, что всякий парадокс есть противоречие, но не верно обратное, что всякое противоречие есть парадокс. Суть дела не только в том, что статическое выражается в деятельности динамически, но и в том, что в самом динамическом представлено статическое. А это не то же самое, что противоречие между объектом созерцания — множествами и деятельностью – счетом. Дело в том, что при счете одно это одновременно и многое. Всего апостолов двенадцать. Это – натуральное множество. При счете апостолы выстраиваются в ряд. Последний в ряду – «двенадцатый апостол». Он один. «Двенадцатый» здесь только другое имя Павла. Но он же одновременно представляет собой и весь ряд, т.е. имеет за своей спиной всю скамейку. «Двенадцатый» отнесен ко всему ряду и содержит в себе этот ряд, т.е. множество, но сам по себе он не двенадцать, а один. Как Павел он реальный апостол, а как двенадцатый – он идеальный, он «представляет», персонифицирует множество. Парадокс и состоит в том, что представленное множество, т.е. множество идеальное, попадает в реальный ряд, где оно уже индивидуум и как таковой тоже сосчитывается.
Противоположность идеального и реального – объективная противоположность, реальное противоречие, противоречие в определениях идеального объекта. А у С.Н. Мареева оно оказывается противоположностью между объектом и тем его определением, которое он получает от субъекта, «противоречием в определении». Парадокс состоит не в том, что мы определяем число то так, то эдак, а в том, что многое есть одно, одно представляет многое, оставаясь при этом одним во всей своей натуральности. Отношение репрезентации выделяется и специально исследуется как особое реальное, объективное отношение, в рамках которого и возникает субъект мышления, а у С.Н.Мареева в данном случае имеется в виду лишь отношение субъекта к объекту, операция определения множества субъектом. У Ильенкова противоречивы определения самого объекта «особого рода», а у Мареева определения числа оказываются противоречиями операции определения.
Понимая, что всякий парадокс есть противоречие, но не всякое противоречие есть парадокс, С.Н.Мареев оговаривается: «Однако говорить с полной определенностью о том, что противоречие, которое обнаруживается в процессе определения величин, есть противоречие в самих вещах, было бы не совсем верно. Но нельзя также сказать, что этот процесс так же произволен, как чисто словесная номинальная дефиниция. Такое противоречие возникает «на полпути» между субъектом и объектом, так что на долю первого выпадает ограниченность, а на долю второго – выхождение за каждую постигаемую им (?–кем, объектом?–Л.Н.) определенность, в «дурное бесконечное». Противоречие возникает «на границе» взаимодействия субъекта и объекта».[15] Но в этом случае мы и получаем версию противоречия, предложенную И.С.Нарским: субъект «огрубляет», а объект «размягчает». Тут неоправданная уступка той самой «диалектике смыслов», о которой выше шла речь. Нам, однако, думается, что здесь мы имеем дело именно с противоречием «в самих вещах», а не между мыслью и вещами. Только «вещи» здесь разные. Одна «вещь» — натуральное множество, другая «вещь» — идеальное множество, т.е. реальное, представленное в другой вещи, столь же «натуральной». Два противоположных определения совмещаются в одном, рождая противоречие.
Возьмем расселовский перифраз того же самого парадокса. Некоторое множество граждан города составляют мэрию. Граждане выбирают мэра. Мэр представляет горожан. Он олицетворенное множество – «многое» в «одном» (лице). Поэтому-то, обращаясь к другим гражданам и мэрам, он говорит «мы», а не «я». Точно так же и король, представляя публике себя как «хорошего» короля, «настоящего» царя, говорит: «Мы, Николай Второй», идентифицирует себя не с «я», а с «мы». Именно это, а не его уникальное происхождение, не кровь, не борода, делает его королем. Елизавета Первая[16] (английская) была рыжей. Но рыжих Елизавет много, а королева одна. Елизавету делает королевой не ее собственное качество, не цвет волос, а ее роль, функция. А это – представительская функция: она королева не как «я», а именно как «мы». Поэтому-то англичанин скажет: «Оскорбив королеву, вы оскорбили меня, нас». Она единоличное воплощение многого. Как индивидуальность – она просто женщина, которой «ничто человеческое не чуждо», рядовая женщина, «как все». Но то, что позволено быку, то не позволено Юпитеру, то, что позволено женщине, не позволено королеве. Она может влюбиться в простолюдина, но не сделать его своим мужем. Она одновременно и то, и другое, и единичное, и множественное. На почве этой диалектики и в реальной жизни и в литературе рождалась масса трагедий. Скажем ли мы, что они рождались «на полпути» от субъекта к объекту, на «границе» двух смыслов? Разве это не реальное противоречие? Не реальным оно будет только в том случае, если идеальное существует только «в голове», в сознании, в нашем определении. Тогда трагедия состоит в том, что «субъективная реальность» вступает в конфликт с объективной, а это несерьезно. Золото в роли всеобщего эквивалента, т.е. денег – не воображаемый, а реальный факт. Множество товаров-плебеев представлено в одном, уникальном товаре – золоте. Но цвет золота, тоже «рыжий», сам по себе не делает его деньгами. Поэтому политическая экономия – не химия. Однако деньги не «субъективная реальность», а золото и как такое оно само становится в один ряд с другими товарами, становится «плебеем» – продается и покупается. Разместите его «на полпути» от субъекта к объекту – и вся теория денег превратится в словопрения о «смыслах».
Вернемся к нашему мэру. Городов много и каждый имеет мэра. Множество мэров может само составить мэрию – «мэрию мэров» и избрать себе мэра. Какую мэрию должен представлять «мэр мэров». Тут мы и получим парадокс Рассела: тот, кто мэр в своей «родной» мэрии, в «мэрии мэров» — просто горожанин. Но если он «просто горожанин», то не может быть «прописан» в «мэрии мэров» И так далее.
Все дело в том, что он воплощенное противоречие: многое в одном. И это реальное, т.е. объективное противоречие, от которого не избавиться ни запретами противоречия, ни «уточнениями» смыслов.
Обострим ситуацию. Монарх издает «универсал», которому должны подчиняться все подданные. Должен ли он сам подчиняться этому универсалу? Иными словами, действителен ли закон для него самого? Должен ли он ставить себя на место своих подданных? Если нет, то он не вправе издавать универсал, ибо издает его он «от имени» подданных, а не от своего собственного, издает универсал не «я», а «мы». И если он сделает для себя исключение из общего правила, то первый же и опрокинет этот «универсал». Тут он будет действовать «не по правилам». Поэтому он вынужден ссылаться на другой универсал, на «метауниверсал» — на то, что он – «помазанник Божий», он исключение из правила именно потому, что есть другое правило, где исключение уже не исключение. Если же этого нет, то он просто тиран, узурпатор, незаконно превративший «наше» в «мое», т.е. выводящий свои особые правила из своей «рыжести».
Здесь у нас получилось, что идеальное, толкуемое Ильенковым как категория деятельности, оказывается чем-то независимым от деятельности. Поэтому уточним: оно независимо от нашего отношения к нему, от деятельности как нашей операции определения, но взятое само по себе, оно – деятельность.
В самом деле. Бездействующий мэр – вовсе не мэр, а просто «индивидуум». Мэром этот индивидуум становится лишь в деятельности представления граждан, в представительской деятельности, т.е. в деятельности, соответствующей его функции. Это его объективное функциональное бытие. Оно определяется не нашим взглядом на него, не нашим определением, а той системой, множеством, в котором он и функционирует не как индивидуум, а как мэр. Это функция множества, а не его индивидуальности. А когда он едет на рыбалку или, будучи женатым, влюбляется в свою секретаршу, то это его собственная функция, противоречащая его несобственной функции, т.е. тому кодексу, который он сам и олицетворяет и за соблюдением которого сам и следит. Поэтому граждане вправе применить к его «единоличности» санкции: он перестанет быть мэром. Но «место», т.е. функция общины остается. И сие от нашего «определения», т.е. от взгляда на индивидуальность, нисколечко не зависит. Так что «деятельностный подход» здесь не утрачивается. Просто он перестает быть субъективистским.
Вернемся теперь к понятию числа.
Число – это не просто «множество – эталон». Это идеальный объект, т.е. представитель множества, сам не являющийся множеством. Тут тот же самый случай, что имел в виду и Спиноза: «Идея круга сама не кругла», идея тяжести не тяжела. Это гетерологический предикат: слово «трехчастный» само не трехчастно.
Число «двенадцать» представляет множество из двенадцати элементов, скажем, двенадцать апостолов. При счете «двенадцатый апостол» замыкает ряд. В этом ряду он индивидуальность, он один. Но этот «один» занимает свое «место» в числовом ряду лишь на том основании, что представляет собой весь этот ряд. За ним – одиннадцать, он – двенадцатый. Он один в двух лицах. В одном лице он – «множество», в другом – «одно». Это разные «вещи». Но став двенадцатым, т.е. будучи сосчитан, он в тоже время представляет весь ряд из двенадцати элементов. В этой функции он уже тринадцатый. 12 реальных апостолов и один, представляющий все это множество. Это – идеальный апостол. Будучи поставлен в тот же ряд, он сосчитает и себя и получится 13 апостолов и так далее. Множество оказывается элементом самого себя, часть, равная целому. Он один в двух лицах. В одном лице – он рядовой, один, в другом он – все множество, многое.
В связи с этим скажем следующее. В реальном, натуральном множестве «Павел» — имя собственное, индивидуальное, получаемое им при рождении, независимо от того, есть ли другие индивидуумы или нет. «Павел» — это знак индивидуума, его имя. При счете, при пересчитывании апостолов он получает другое имя – «двенадцатый». Это второе имя – порядковый номер, обозначающий не Павла, а его место в порядке, в счетном, числовом ряду. Поменяй Павла на Иуду, будет то же самое: «двенадцатым» станет Иуда. Второе имя – «двенадцатый» — принадлежит Павлу или Иуде лишь постольку, поскольку они сами принадлежат этому порядку. Получается, что имя Павел принадлежит индивидууму, а имя «двенадцатый» принадлежит «идее Павла». Как Павел он находится в ряду индивидов, а как идея – он вне ряда и сосчитан быть не может. Идея тяжести не тяжела и потому в ряду тяжелых тел не размещается. Получается, что «Павел» и «двенадцать» — просто два разных имени одного и того же.
Формализация же превращает объекты в знаки, стирает содержательные различия между знаками. Два имени одного и того же превращаются в два разных объекта, в две разные «вещи», в две разные «res». Поэтому при счете одна и та же вещь, «res», сосчитывается дважды. «Двенадцатый» становится «тринадцатым», а счет – невозможным. Один раз он сосчитывается как натуральный член натурального ряда, т.е. как Павел, а другой раз как имя репрезентированного в нем множества, как «двенадцать», как «все». Идея тяжести сама становится тяжелой. Идеальное, репрезентированное в индивидууме множество, выдается за натуральное, оказывается само индивидуумом и как таковое попадает в то самое множество, которое и представляет.
Фокус с разными именами не нов. Объясняя в письме к Ольденбургу непонятливым, что такое атрибут, Спиноза приводит пример: «Израиль» — это имя одного патриарха, другое его имя – Иаков – два разных имени одного и того же. Так же и субстанция: одно ее имя – «протяженное», другое – «мыслящее». Но она – одно и то же. Два разных имени одного и того же не означают, что существуют две разные вещи. Как будто бы ясно. Но находятся такие … мудрецы, которые этого не понимают. А вот Гоббс «правду-матку» резал в глаза: «Слова – это счеты умных людей, но для дураков они – деньги. Услышав два разных слова, они мыслят две разные вещи». «Вещь» по латински – «res».
На Ильенковских чтениях уже не единожды звучала «критика» в адрес «вульгарного материалиста» Ильенкова: у Ильенкова есть словосочетание «мыслящее тело», («corpus cogitans»), а у Спинозы – «мыслящая вещь», («res cogitans»), которая понимается им не как «тело», а как «душа». («Мыслящее тело», по мнению «критика» — абсурд, оксюморон). Ильенков же «подсунул» одну «res», тело, на место другой, спинозовской «res» – души и получил «мыслящее тело», «изуродовав» таким образом Спинозу. Откуда следует только одно: у Спинозы – две разные «res», а у Ильенкова одна. Но тем самым «правдоискатель» сделал из мониста Спинозы дуалиста… Нет, не Декарта, а заурядного «батюшку». Увидев в текстах два разных слова, тут же и помыслил две разные «вещи». А Спиноза все разъяснял «умникам»: да не две разные res, не две вещи, а одна — субстанция и два разных выражения одного и того же.
Вот наглядный пример. А.Д.Майданский в Материалах научной конференции, посвященной «памяти выдающегося отечественного философа Э.В.Ильенкова» (слова редколлегии, предваряющие публикацию), публикует опус под следующим названием: «О «деятельной стороне» учения Спинозы: Ильенков против Гегеля и Маркса». — Чем не сенсация? В заголовке автор поскромничал и оборвал себя на полуслове, но в тексте сказано все: Ильенков против Гегеля и Маркса, Майданский против Ильенкова». Взяв Ильенкова в сообщники в «деле» дискредитации Гегеля и Маркса, Майданский тут же предал его, обозвав вульгарным материалистом. Тем самым устранил подельника-конкурента. Смысл этого выступления прост и очевиден до изумления: Гегель и Маркс разобрались в Спинозе плохо, Ильенков кое-что понял, но сам оказался еще хуже – вульгарным материалистом (вульгарный – значит примитивный), а вот Майданский разобрался хорошо. – Простота, но совсем не святая, а та, что хуже воровства, ведь это говорится в издании, посвященном памяти! В моей деревне и сегодня так говорят: «Ржаная каша сама себя хвалит».
Незамысловат и мотив: сделать себя заметным, может быть даже соизмеримым. Осуждать это нельзя, кто только сегодня не домогается известности. Но есть два пути доказательства своей значительности. Один путь – это расти над собой. Второй – принизить великих. Первый путь труден, второй «протоптанней и легче», т.е. дешевле. По нему прошла Крыловская Моська: «Ай, Моська! Знать она сильна, коль лает на слона». Но то, что дешево добыто, дешево и стоит – дешевка. Доказать, что Ильенков – «вульгарный материалист» не по зубам не только Майданскому, но и тому, кто покрупнее – не липнет это клеймо к Ильенкову, никак не липнет! А вот показать, что «доказательство» Майданского даже не вульгарный идеализм, а бессмыслица, проще простого. Судите сами. Сначала он сообщает, что в «Этике» «повсюду маршируют армии слов»: «действовать», «действие», «деяние», «действующий», «и им подобных». «Если речь идет о причинах, то только о ’’действующих’’». Затем цитируется Спиноза: «нет ничего, из природы чего не вытекало бы какого-либо действия».[17] Получается, что сначала под «действием» понимается причина, затем под действием же понимается то, что следует из причины, затем делается общий вывод о безбрежном «активизме» Спинозы.[18] Но то, что следует из причины, обычно называется следствием. Следствие (то, что следует, «вытекает») и имеет в виду Спиноза, употребляя другое слово. Причина – активная сторона отношения, следствие = «действие» – пассивная. У Майданского же следствие оказывается «действием», активной стороной. «Действие» — это переряженное Майданским «следствие» и оно же оказывается следствием самого себя. Слова «действие» и «следствие» у Спинозы разные, а смысл один. У Майданского же слова разные и смыслы разные, даже противоположные. Спиноза видит смысл, Майданский – «армии слов». Спиноза высказал по сути дела простую мысль: все можно рассматривать как причину чего-либо, из всего что-либо «вытекает». Верно и обратное: все имеет причину, т.е. может рассматриваться как следствие. Не надо быть Спинозой, чтобы понять такую простую вещь. Именно поэтому «армии слов» маршируют не только в «Этике», но и в Библии, где их не меньше. Только в Библии «действующая причина» оказывается Богом, абсолютно действующей сущностью, только действующей, а у Спинозы на месте Бога оказывается самопричинная субстанция, которая есть природа. В этом случае слова «подобны», а смыслы противоположны. Здесь Майданский видит только подобие слов, но не видит различия смыслов. Так что Ильенков обрел вульгарность «в мысли» Майданского и обрел только потому, что это – вульгарная мысль.
Мне не пришлось бы говорить этих слов, если бы Ильенковские чтения не были памятными. Клеветать можно где угодно, но только не здесь! У желтой прессы предостаточно и своих читателей.
Противоположность идеального и реального – содержательная противоположность, объективная. Формализация же это содержательное различие устраняет и начинает считать идеальное как рядовое, сосчитывает самого себя. Идеальное как репрезентированное множество находится вне реального ряда. А как нечто реальное, единичное оно попадает в этот ряд, «развенчивается».
Мораль из этого следует такая: формализация есть грех. И если не можешь не грешить, то плати. Парадоксы – это плата за грехопадение формализации. Формализация ведь и состоит не в том, что содержание вообще выбраковывается, а в том, что различия в содержании редуцируются к различиям в форме, т.е. представляются как формальные различия. Без этого мышление не может обойтись. Иначе оно не будет предметным для себя самого. Но надо помнить, что это оплачивается парадоксами. Форма никогда не будет сполна тождественна содержанию, то есть выражение не совпадает сполна с выраженным, а выраженное – это и есть «бытие вне мысли».
Радикального решения проблемы парадоксов в рамках формализации не получишь. Потому-то любой формализм всегда неполон. Радикальное решение проблемы парадоксов дает не «теория типов» Б.Рассела, а ильенковская теория идеального. Думается, что все это можно обсуждать в дискуссии.
Несколько слов о «теории типов». Она содержит в себе запрет на «ненормальные объекты» (множества множеств, включающие самих себя в качестве своих элементов) и «ненормальные высказывания» (высказывания о самих высказываниях, наподобие «семантического парадокса» «Лжец»). Здравый смысл здесь есть. Беда, однако, в том, что та же самая логика обязывает наложить запрет на сам запрет. По сути дела теория типов запрещает противоречие и, делая это, сама рождает противоречие снова. Не в виде ли парадокса?
Парадоксы в теории Фреге возникли в результате формализации. У Рассела они запрещены. А не логичнее ли запретить не парадоксы, а саму формализацию, в результате которой они возникают? Можно ли запретить формализацию? Ведь именно это и будет запретом запрета наложенным на противоречие. Возможно ли, однако, мышление без формализации? Уничтожая противоречие, не уничтожим ли мы само мышление, как мы уничтожаем его, редуцируя мысль к языку, мышление к «говорению»? Думается, что это тоже можно обсудить и на эту тему подискутировать.
[1] См. Науменко Л.К. Эвальд Ильенков и мировая философия. «Вопросы философии», 2005, №5,с.132-133.
[2] Выготский Л.С. Собр. Соч., т.1, М., Педагогика,1982, с.347.
[3] Ильенков Э.В. Вопрос о тождестве мышления и бытия в домарксистской философии. – Диалектика – теория познания. Историко-философские очерки. М., 1964, с.54.
[4] Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. Издание второе, дополненное. М., Изд.полит.литературы.1984,с.140.
[5] «Это власть, власть утверждать дивергенцию и децентрацию». Делез Ж. Логика смысла. Москва, «Раритет»; Екатеринбург, «Деловая книга», 1998.С.345-346.
[6] См.: Ильенков Э.В. О так называемой «специфике мышления» (к вопросу о предмете диалектической логики). Драма советской философии. Эвальд Васильевич Ильенков (Книга-диалог). М.,1997.С.183-195.
[7] См. Ильенков Э.В. Диалектика идеального. Искусство и коммунистический идеал. М., Искусство,1984.С.44.
[8] Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить. Москва-Воронеж.2002.
[9] См. Ильенков Э.В. Гегель и герменевтика. Искусство и коммунистический идеал. М.,Искусство,1984.С.77.
[10] Ильенков Э.В. Диалектика идеального. Искусство и коммунистический идеал. М., Искусство,1984.С.77.
11 Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Издание второе, дополненное. М.,1984.С.37,143.
[12] Там же. С.31.
[13] Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии. М., Академический проект, 2003,с.601-602.
[14] Подробнее об этом см. в книге: Науменко Л.К. «Монизм как принцип диалектической логики». Алма-Ата, Наука, 1968, с.188-209.
[15] Мареев С.Н., Мареева Е.В. история философии. Там же.
[16] Любопытно, что здесь то же самое, что и с числом: напиши слово «первая» с маленькой буквы получишь «счетную» Елизавету, а напиши с большой – получишь индивидуальное имя. На этой «диалектике смыслов» ловко сыграла Екатерина Вторая, написав на памятнике Петру, на «Медном всаднике»: «PETRO prima – CATHARINA secunda». Читай: «Петру Великому — Екатерина столь же великая».
[17] Майданский А.Д. О «деятельной стороне» учения Спинозы: Ильенков против Гегеля и Маркса. – Ильенков и Гегель. Ильенковские чтения, 2007, Ростов-на-Дону,2007,с.81.
[18] Что же касается «активизма», то это тоже полная чушь. Спиноза отрицает даже свободу, понимаемую «активистски». «Активизм» из другой оперы, модный ныне. В таких случаях говорят: «Слышал звон…»